Светлана Алексиевич: мы живем при диктатуре маленького человека
Великая утопия — это социалистическая идея, которая будет жить вечно...
 Светлана Алексиевич — писатель, с именем которого после смерти Василия Быкова ассоциируется белорусская литература, притом что в самой Беларуси ее книги лет десять не издаются. Название ее книг уже стали метафорами: "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Зачарованные смертью". Она пишет хронику про маленького человека и великую утопию, пытаясь проследить, что происходит с человеком во время больших потрясений.
Светлана Алексиевич — писатель, с именем которого после смерти Василия Быкова ассоциируется белорусская литература, притом что в самой Беларуси ее книги лет десять не издаются. Название ее книг уже стали метафорами: "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Зачарованные смертью". Она пишет хронику про маленького человека и великую утопию, пытаясь проследить, что происходит с человеком во время больших потрясений.
О том, насколько человек связан со своим временем, как он себя чувствует в его смутные времена, шел разговор в недавний приезд писателя в Москву из Швеции, где она сейчас живет.
— Последнее время вы стремительно перемещаетесь по миру - Франция, Италия, Швеция, сейчас Москва. Что вы ищете?
— Я занимаюсь поиском историй, которые в экстремальной ситуации просвечивают человека и время. Время изменилось, и мы уже другие люди. Учимся жить без великих событий, без великих идей, потихоньку меняем кожу, даже те, из прошлого времени. Поэтому я взялась за дополнение книг "У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики". В каждую главу добавляю хор из разговоров на русской кухне 1985-1995 и 1995-2005 годов. Чтобы схватить это время, езжу по России. Потому что одна Россия — это Москва и Петербург, и совершенно другая — это Тверь, куда я доехала за три часа из Москвы.
— И куда вы приехали?
— На 20 лет назад. Психология там в основном абсолютно советская. Что люди постоянно подчеркивают. Это и есть накопление некой агрессивности. В какую форму она уложится, кто эту энергию подберет, пока неизвестно.
— Разговоры о том, что в провинции жизнь спокойнее, пустые разговоры?
— Это заблуждение. Там накапливаются раздражение и недовольство Москвой, большими городами.
— Раздражают деньги?
— Раздражает ощущение несправедливого дележа. Мы же не ходили в 90-е годы на демонстрацию за то, чтобы всю нефть отдали Абрамовичу? Раздражение на несправедливость — главное настроение.
— Почему оно только сейчас проявилось?
— Долгим было время наивности, когда верилось — не будет коммунистов и будет хорошая жизнь. Кажется, я у Александра Кабакова прочла верное замечание: мы все время боролись с чудовищем и победили его. Обернулись, а жизнь стала еще страшнее — надо жить с крысами. Из человеческой природы, раньше загнанной в подполье, такое поползло, что культура оказалась не готовой с этим справиться, материальные, биологические искушения оказались сильнее ее. Ведь наша культура — это культура борьбы, разрушения, военного освоения мира. Культуры жизни как таковой у нас нет и не было. А поднявшаяся из глубин древняя культура выживания не та, на которой можно построить современную жизнь. Она требует осмысления, а у нас даже интеллигенция самоустранилась от участия в серьезном разговоре. В Париже у меня вышла "Чернобыльская молитва" тиражом более 150 тысяч. Мои дебаты с известным философом Поль Велерье собирали залы в 700 человек. А у нас, что, нет важных вопросов? Сегодня люди в одиночестве проделывают гигантскую работу, отвечая себе — кто он? откуда? почему у нас ничего не получается?
— Вы уверены, что люди пытаются найти ответы на собственные вопросы, а не ищут образцы для подражания?
— Часто человек, оставленный один на один со сложными вопросами, выбирает более легкий путь — копирование чужой жизни. Но мы копируем чужую жизнь, совершенно не представляя ни трагизма, ни сложности западной жизни. Пожив в Европе, я вижу, насколько нам ближе европейская, а еще ближе социал-демократическая шведская модель. Мы же взяли более жесткую американскую, рассчитанную на другую историю, другой менталитет.
— Чем вы объясняете этот выбор?
— Бескультурностью власти.
— Первый призыв во власть был как раз культурнее остальных.
— "Региональная группа" не была же как таковой у власти.
— Но определяла политику.
— Чтобы обустроить Россию, надо было 10 тысяч думающих людей. А их была группка, и эту группку выбирал демократический царь с царственной психологией. Кто что из приближенных шепнул на ушко — того и послушал. Случайные слова, случайные люди.
— Вы считаете, что у них не было плана действий?
— В этом слабость нашей культуры — мы люди разговора. Это связано с нашим необозримым пространством. Длинные дороги — длинные разговоры. Открыть душу, облегчить страдания, помечтать. Не о строительстве же дома говорить долгими ночами в дороге? Из кибиток переместились на кухни. Вышли из кухни в конце 80-х, прокричали свои заклинания, а дальше что? Дальше же надо иметь план, как строить государство. Я задала вопрос одному высокопоставленному чиновнику в расцвет истории с Ходорковским — откуда он взялся? "У нас была программа делать капиталистов". — "Но если вы их делали, то почему так безграмотно сделали?" — "Мы закрывали 500 скважин каждый год, нечем было платить. Оставшиеся дали этим ребятам, и все закрутилось. Но мы не продумали, что они деньги могут за границу отдать или себе забрать". — "Как это не продумали? Вы что, не читали, что человек так устроен?" Не читали. Одна из главных причин наших неудач — малокультурность власти. Более того, в ней узаконено высокомерие к культуре, к реальности, к народу. Наша власть никогда не любила человека.
— Но именно потому, что это российская власть, она понадеялась на интеллигенцию. А как говорил Герцен: "Интеллигенты не врачи, это боль". Именно таких людей, которые не знают, как и что делать, призвали править страной. Это, скорее, менеджерская ошибка власти, чем вина интеллигенции. Вот когда она перестает чувствовать боль, тогда с нее можно спрашивать. Что у интеллигенции сегодня болит?
— Эти слова Герцена мне никогда не нравились. Он как бы оправдывал то, что интеллигенция всегда стояла чуть-чуть в стороне, чуть-чуть над любым делом. В Европе интеллигенция — это тоже прослойка общества, но она не выделяет себя. Все заняты возделыванием жизни, у них нет нашего высокомерия по отношению к народу. Почему моя профессия выше профессии, например, детского хирурга-онколога? Что я, больше за нее плачу, больше страдаю? Это все неправда. Хотя я, может, и имела право так сказать, я же была на войне в Афганистане, меня судили за мои книги, я в вечном конфликте с властью. Но у меня все равно нет оснований для высокомерного места в жизни, того, которое почему-то узаконено в сознании нашей интеллигенции. А когда пришлось платить поступком вместо слова, то оказалось — где мы? Нас нет. Это катастрофа, за которую страна расплачивается. И единственное, что можно сделать, это постараться честным людям хотя бы сформулировать трагедию.
— Когда власть решила сформулировать национальную идею, она по привычке обратилась к интеллигенции. Понятно, что из этого ничего не вышло, но почему интеллигенция даже не воспользовалась поводом для серьезного разговора о судьбах страны?
— Мы пропустили момент, когда интеллигенция, постаравшись дать ответы на вызовы времени, могла сохранить свое место. Это как красивая актриса, которая все время помнит, что она красива, и ждет необыкновенной роли. Но время идет, и уже пришли другие люди, другие ценности. У старой актрисы еще есть пространство для маневра, ей хочется нравиться новым людям. И она начинает встраиваться в их систему ценностей. Что стала делать интеллигенция после своего поражения? Она стала встраиваться. Помню, как первый раз почувствовала эти перемены. Это было в Белоруссии. Приезжаю в какой-то клуб, где много людей, появление которых на трибуне, в телевизоре лет 7-8 назад ждали с нетерпением, и много спортсменистых молодых людей новой формации. Выступает известный писатель, зал гудит как ни в чем не бывало. Раньше бы ведущий одернул наглый зал, а сейчас ему заплатили, и он молчал. На моих глазах интонация писателя менялась. Когда-то кумир зала, он был еще не обслугой, но уже второстепенным действующим лицом.
— Это девальвация слова или девальвация личности писателя как выразителя этого слова? Ведь слово прошло через все скомпрометировавшие себя идеологии ХХ века. Может, поэтому оно потеряло свою власть?
— Сейчас часто цитируют Розанова, сказавшего: "Русь слиняла за три дня". Хребет доломал Сталин. Нам объяснили, что от нас ничего не зависит. В лучшем случае можно только говорить, и мы изошли словами. Но не намерения, а действия творят реальность, а мы все время питались иллюзиями, повторяли заученные заклинания. В эмоциональных банальностях уже не было электричества. В сознание людей вкатила новая, варварская, авантюрная, искусительная жизнь. Ты можешь сколотить капитал, отхватить кусок и обеспечить своих детей, а мы этим людям с горящими глазами читали Ахматову, Мандельштама. А тогда важно было читать больше экономистов, чтобы понять, как устроен грядущий мир. Мы же пользовались допотопными конструкциями. Я как-то зашла на стеклянный завод, а там штампуют граненые стаканы и бутылки, с которыми под танки бросались 60 лет назад. Интеллектуальные заготовки у нас были такого же образца. И молодежь мы не могли увлечь ими.
— Чем можно увлечь новое поколение?
— Современный человек стал изощреннее, информированнее и камернее, уже никого не поднимешь на борьбу за большую идею. С таким человеком сложнее говорить. Раньше мне было легко найти 10 историй для своих книг, поскольку жизнь делилась на добро и зло, на социализм с человеческим лицом и без. А сейчас смыслы умножились, жизнь рассыпалась, общество раздробилось. И схватить 10 историй, через которые бы просквозило время, стало сложнее. Это о чем говорит? О том, что все слова из старого мира не действуют. Надо искать новые. Представьте, чтобы во Франции сейчас предложили сформулировать национальную идею. Она давно сформулирована в христианском мире — ценность человеческой жизни.
— А как индивидуалистическое сознание западного человека связано с диктатурой маленького человека?
— Это правда, мы сейчас живем при диктатуре маленького человека, и это самая страшная диктатура — он заказывает. Но на Западе элитарные идеи, элитарные художники имеют свои ниши, а поскольку общество богатое, у него еще есть силы охранять эти ниши. Однако и у маленького человека много ролей. Когда мои герои говорят о своем страдании, они велики, просто все герои Достоевского. Когда заговорим о сегодняшней жизни, они просто обыватели, недоумевающие, в чем же смысл страдания, если оно не освобождает, не очищает, не поднимает? Маленький человек в Европе — это человек, который уже умеет отстоять пространство своего достоинства, и попробуй у него что-нибудь забрать. Французское правительство столкнулось с этим, когда попыталось отобрать у студентов их право на работу. Но если начинаешь говорить с ними о культуре, то выясняется, что большинство хотят читать французскую Маринину. Очень мало людей в обществе, желающих читать Достоевского.
— Но по идее так и должно быть?
— Да, это нормально. Но плохо, когда жизнь выстраивается по модели тех, кто читает, условно говоря, Маринину. В этом сложность демократии — жизнь надо выстроить по Достоевскому, но объяснить это людям, любящим читать Маринину. Там огромный аппарат этим занимается. А у нас что получается? Люди, читающие Маринину, сейчас заполнили все.
— Тем не менее путь к небу и путь к зверю где быстрее проходят?
— Люди, прошедшие ад, говорили мне, что человек превращается в зверя за три дня. Страх исчезновения быстро обрабатывает человека. Но про чернобыльскую книгу мне немцы и французы говорили: "Если бы это случилось у нас, то я бы посадил семью в машину и уехал. И это сделали бы все. Никто бы голышом не пошел таскать графит на крыше реактора. Вы, русские, удивительные люди". Действительно, сложно разобраться с нашим человеком. С одной стороны, устроим Чернобыль, а с другой — будем его спасать голыми руками.
— Если бы эти люди тогда понимали, что такое радиация, делали бы они то же самое?
— Я задавала это вопрос. Некоторые были обижены и говорили, что нет. Но один вертолетчик, от которого уже остался один скелет, сказал: "Повторил. Надо было, а кто бы защитил?" Наша культура и религия выработали в людях жертвенность, это огромный потенциал, и им еще долго власть сможет злоупотреблять.
— Вы пишете не только про маленького человека, но и про великую утопию. Что вы вкладываете в это понятие?
— Великая утопия — это социалистическая идея, которая будет жить вечно. Я хочу, чтобы маленький человек сам рассказал, как он поверил в социалистическую идею, как он умирал, как он убивал, был счастлив или несчастлив в ней, какие у него были идеалы.
— Общественный фонд говорит: 70% людей отвечают, что у них нет сегодня идеала.
— Слово "идеал" из старого лексикона. Сейчас у людей программа, проект, цель. Они ходят, например, в спортивные залы, добиваясь сходства с любимой актрисой.
— То есть нечто материальное, тогда как идеал заключает в себе некоторые духовные представления о мире.
— Возникают новые слова, и они отражают новую реальность. Духовность тоже материя не постоянная. Возможно, сегодня она имеет другое наполнение.
— Духовность — это осмысление мира, которое становится твоим внутренним переживанием.
— Когда я разговариваю с людьми моего поколения, то мне интересно только в том случае, если они говорят о своем опыте страдания. С молодыми интересно говорить обо всем. Появилось много новых увлечений — и религией, и восточными учениями, и мистикой. Это все обращено к внутреннему миру. Это тоже форма духовности. Понятие духовности меняется, это надо отслеживать, а не клеить ярлыки.
— Авторитеты для закрытого общества, а модели для открытого?
— Да, для открытого, когда человек относится к жизни как к творчеству. Человек все больше превращается в паучка, он просто ткет свой мир, и ткет его из многого. Человек — это путь, это долго. Другое дело, сколько и что усваивается на этом пути. Помню этот ужасный случай, когда мальчик покончил в собой, потому что не смог в школе заплатить за какую-то ерунду. И учительница его унижала за это. Проблема неравенства потрясла маленькое сознание, и оно не выдержало. Человек страшен, если не защищен культурой.
— Культура защищает сознание?
— Да. Она дает точки опоры, силы не суетиться... Только она должна научиться говорить об этом современным языком.
— Современный язык визуален. Вас не огорчает, что картинка подменила слово?
— Это не так. Слово все равно ждут. Я видела те залы, в которые сотни людей приходили слушать и Умберто Эко, и Поля Велерье.
— Но здесь не приходят.
— У нас нет таких личностей или они в тени.
— Почему?
— Мы оказались в ловушке, расставленной нашей культурой борьбы. Я сейчас пишу книгу о любви. Книгу о любви мне тяжелее писать, чем все книги о войне. Мы совсем не умеем об этом говорить. Если у французов в языке десять слов о теле женщины, то у нас это огромное пространство — наслаждение, радость, тайна — не освоено. У нас нет стройматериала в душе человека, кроме как для амбразуры. Почему богатые такие заборы строят себе? Это связано не только с опасением за незаконные деньги, но и с тем, что не узаконено счастье. В культуре не узаконено. Если Мандельштам, когда его жена спросила о счастье, сказал: "А почему ты решила, что мы созданы для счастья?" У нас нет традиции проживать свою жизнь. Есть традиция положить свою жизнь, отдать свою жизнь. Это совершенно другая культура.
— Может ли она измениться?
— Думаю, что да. Человечество повышает ценность всего живого. Мы начнем ценить воду, натуральное яблоко, потому что скоро их не будет. То есть начнем ценить жизнь, не выращенную в пробирке. Это мы пока заняты сугубо социальными вызовами. Но впереди нас ждут вызовы разума, то, что Достоевский обозначил как вызовы Богу. Что такое взять и сделать человека не по божественному замыслу, а по человеческой кальке? В ближайшие 50 лет мы удивимся миру, в котором окажемся.
— А вам не кажется, что мир движется скорее в сторону войны, а не естественной жизни?
— Я и вернулась к книгам о войне, потому что поняла: мир стоит на грани тотальной войны. И самое странное, что демократическая супердержава на новые вызовы смогла ответить только архаическим способом. Она опять стала убивать людей, а не идеи. Мы увидели, что когда человеку страшно, а культура не может подсказать ответ, то поднимаются архаические инстинкты. Это свидетельство растерянности и страха, ведь мир везде потерял ощущение стабильности.
— Это свидетельствует о кризисе идей в мировом масштабе?
— Да. Человек настолько выскочил в другое пространство, настолько все скоростно меняется, что культура не справляется с новой реальностью. Все чаще речь заходит о мировом кризисе. И что интересно, я во Франции не раз слышала, что спасение придет из России. Нам кажется, что наша жизнь некрасивая, неприглядная, а они смотрят сюда с надеждой, чувствуют, что здесь есть энергетика, живая жизнь.
— У вас много книг издается на Западе, что им в них интересно?
— Думаю, их интерес связан со страхом жизни. Им кажется, что у нас есть опыт страданий. Нельзя сказать, что только русские страдали, но благодаря Достоевскому, Толстому, Солженицыну мы смогли миру больше об этом сказать. Тут нам доверяют, и тут ищут мужество жить, мужество идеализма. Жить только по прагматичным законам скучно. Когда перевешивает биологический человек, это тоже страшно. Достоевский, у которого на все есть ответы, говорил, что русскому человеку всегда будет мало процентов с доходного домика, и наша метафизичность их привлекает.
— Когда вы про любовь говорите, что рассказывают?
— Больше говорят о невозможности любви, о трагизме.
— Жизни или любви?
— Любви. Любовь — это жизнь. В нашей культуре это ценность непременная. В Европе настроены на радость ежедневную, спокойную радость. Мы - на сияние и восхождение. Отсюда большое искусство.
— О чем охотнее говорят, о смерти или о любви?
— О смерти. Я приходила к людям, которые были ударены этим. Им хотелось высказаться. На Западе мой жанр вряд ли мог работать. У них все собственность, и личная жизнь тоже. А у нас соборность — не просто слово. Я выросла в деревне, где все на миру, все всё знают, обо всем говорят. Отсюда и жанр мой родился — через голоса. И самый важный разговор — о любви и смерти. Ведь нет больше тайны, чем любовь и смерть. Война — третья тайна. Есть тысяча объяснений, но все равно ничего не понятно. Что такое писатель? Человек, который додумывает вещи до конца и имеет свою версию мира. Время ответов на вопрос — что делать? — прошло. Единственное, что знаю: надо соединять в себе две жизни — свою крошечную историю и большую историю. Быть человеком для всех и человеком для себя.
— Художник всегда живет в конфликте с властью, в конфликте с массовым сознанием и конфликте с самим собой. Что самое сложное для вас?
— Самое сложное для меня — не противостояние власти. Это целая культура — спор царя с поэтом. И уехала я за границу не из-за Лукашенко. Честные люди там тоже живут, и я туда приезжаю. Я уехала перестроить свой инструмент внутренний, свой зрачок, потому что на баррикаде ты только мишень видишь. Я видела больших писателей, которые пропали, став или тусовочными, или баррикадными. Я уехала, поняв, что мой зрачок сузился. Иногда итальянский пейзаж возвращал мне нормальное зрение или давал другое измерение. В Париже парень задает мне вопросы по "Цинковым мальчикам", а я не могу понять, о чем он спрашивает. Потом выяснилось, что он с Канарских островов, никогда не встречал воевавших людей и понятия не имеет, что это такое. И вдруг слышит массу вещей, травмирующих его. И я увидела впервые растерянного человека перед тем, с чем я выросла. Почему наши люди ностальгируют, хотя успешно устроены в чужих краях? Потому что они другие, в тот мир не так легко войти, там надо вырасти без этой памяти, без этих ощущений.
Но и у меня появился другой взгляд. Пространство выросло, другие вопросы к жизни родились. Книга о любви была бы другая, если бы я не пережила этого.
— Почему?
— Потому что я поняла, что люди иначе живут. Я и сама пережила очень сильное чувство, среди другого пейзажа, среди других вещей. Я прихожу к человеку, и его текст зависит от того, счастлив он или несчастлив, сама я счастлива или нет. Ведь документа нет в чистом виде, это история чувств. Мы не способны проникнуть в реальность как она есть. Из времен перестройки мы запомним не танк, куда залез Ельцин, а рассказы людей, как он залез на этот танк, что он говорил, с какими лицами люди слушали.
Я не говорю, что танка не существует. Но меня интересует процесс превращения танка в чувство. В принципе не важно, что в Троянской войне убивали из лука, а в Афгане из гранатомета. Важно, как это человек делал, что с ним происходило в этот момент. Исследованием этого я и занимаюсь в своих книгах.
Ольга ТИМОФЕЕВА, "Московские новости"














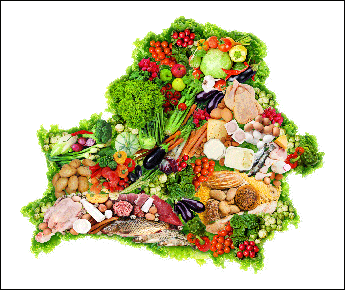





Обсудим?