Проблемы ресурсосбережения остаются бесхозными
Завершился очередной этап Государственной научно-технической программы "Ресурсосбережение". О том, что удалось и не удалось сделать, о планах на будущее "Экономической газете" рассказывает заведующий лабораторией Научно-исследовательского центра проблем ресурсосбережения НАН Беларуси академик Анатолий Свириденок.
— Анатолий Иванович, в наше время потребление ресурсов рационализируют даже самые богатые государства, что нашло отражение в новой концепции мирового хозяйствования: вместо прежнего "растущего благосостояния" она стала называться "устойчивое развитие" — развитие не в ущерб будущим поколениям. Как на этом фоне выглядит наша республика?
— Для Беларуси проблема бережного отношения к природным ресурсам важна по нескольким причинам. Начнем с того, что собственных недостаточно. Второе — экономика страны пока плохо вписывается в концепцию "устойчивого развития", она, как известно, ежегодно прирастает, в том числе за счет все большего потребления различных невозобновляемых ресурсов, которые мы вынуждены покупать. И, наконец, все так же велика ресурсоемкость отечественного ВВП — около 65%, что соответствует уровню 80-х годов прошлого века, тогда как в промышленно развитых странах этот показатель равен 25-30%. А с этим фактором, как известно, очень тесно связана конкурентоспособность продукции.
— И что из этого следует?
— Давайте скажем так — что должно следовать. Для начала приведу такой факт: доля энергозатрат в общей ресурсоемкости ВВП доходит до 20%, тогда как материалов, комплектующих и сырья — 40-50%. Работа по оптимизации энергопотребления ведется достаточно активно — в республике принят и работает специальный закон, создан Комитет по энергоэффективности при Совмине, ежегодно устанавливаются показатели снижения энергоемкости ВВП. Есть и результаты: энергоемкость отечественного продукта ежегодно снижается на несколько пунктов. А вот с уменьшением материалоемкости дело обстоит неважно. Если бы она сокращалась хотя бы на 1-3% в год, уже было бы очень хорошо. Ведь снижая расход материала на единицу продукции, мы тем самым экономим энергию, затрачиваемую на ее получение и переработку.
— Почему нельзя принять те же меры в отношении ресурсосбережения, потенциал которого неизмеримо больше?
— В основном из-за отсутствия соответствующего закона, хотя его проект был разработан несколько лет назад. Отсутствуют какие-либо прямые стимулы для экономии материальных ресурсов — за исключением того, что расширяется экономическая база предприятия (к примеру, если оно начинает использовать отходы, то на них уже не надо платить экологический налог). Очень необходим ресурсный аудит — хотя бы для того, чтобы выяснить, кто же больше всего у нас транжирит сырье и материалы. Заодно можно будет оценить инновационную способность предприятий и их возможности восприятия научных заделов.
В свое время я предлагал переименовать Комэнергоэффективности в Комитет по ресурсоэффективности, поручив ему, кроме энергетических, вопросы оптимизации материалопотребления и экономии материально-сырьевых ресурсов, координацию отраслей в этой области. Однако до сих пор организационные проблемы ресурсосбережения в республике бесхозны.
Второй аспект проблемы — финансовый. Для того, чтобы довести ресурсную составляющую ВВП до европейских параметров, надо вложить в создание ресурсосберегающей экономики несколько десятков миллиардов долларов. Причем сделать это как можно быстрее, потому что со временем Запад уйдет еще дальше, и придется опять догонять.
— Десятки миллиардов — серьезная цифра!
— Серьезная. Но оправданная: каждый государственный рубль, вложенный в ГНТП "Ресурсосбережение", дал в ушедшей пятилетке порядка 10-12 руб. новой продукции. При этом 3-4 рубля вернулись государству в виде налогов. Промышленности ежегодно передавали 20-25 ресурсосберегающих разработок со средней окупаемостью 2-3 года. А еще надо учесть стоимость тех самых ресурсов, которые сберегли исполнители программы, новые рабочие места и прочие факторы... Выгода, словом, очевидная.
Но в рамках народного хозяйства республики это малозаметно. Ибо в последнее время из бюджета на программу ежегодно тратится не более 600-800 млн. белорусских рублей. И это на 15-20 заданий! По оценкам, 60-80% используемых в экономике базовых межотраслевых технологий (а их несколько тысяч) "родились" в прошлом веке, морально и физически устарели, отсюда огромные перерасходы исходного сырья.
— Как на самих предприятиях относятся к идее ресурсосбережения?
— В соответствии с Положением о ГНТП требуется, чтобы субъект хозяйствования, с которым ученые начинают работать, на каждый рубль бюджетных средств обеспечил поступление не менее одного рубля внебюджетных. А это значит, что крупному предприятию на крупные проекты нужны крупные деньги. На мой взгляд, больше внимания надо уделять средним и малым предприятиям. Их тысячи, и в своей массе они "перемалывают" не меньше ресурсов, чем крупные. А поскольку они в основном находятся в регионах, надо активизировать ресурсосберегающие работы в региональных программах. Но как только начинается разговор о внебюджетном финансировании, встает вопрос о деньгах, вернее, об их отсутствии на эти цели.
В регионах сейчас созданы областные инновационные фонды для предприятий местного подчинения. Предприятия республиканского подчинения отправляют свои средства в центральный фонд. Получается, что и те и другие живут сами по себе, хотя находятся в одном регионе, пользуются теми же дорогами, общественным транспортом, жены и дети их работников дышат тем же воздухом и т.д. Поэтому весьма актуален вопрос об отчислениях предприятий республиканского подчинения в региональные инновационные фонды.
Ресурсосбережение — такая категория, которую за частоколом насущных проблем можно долго не замечать, пока однажды не почувствуешь, что продукцию не покупают, оборотных средств не хватает, возникают трудности с выплатой зарплаты и т.д. Плюс ко всему на многих предприятиях отсутствуют инновационно восприимчивые специалисты. Одно время курсы по ресурсосбережению читались в вузах, теперь их заменили только энергосбережением.
Проблему оптимизации ресурсопотребления не решить без участия "большой" науки. Нужно довести наукоемкость ВВП хотя бы до 2,5% — пока она значительно ниже. Республике нужно возобновлять и наращивать свой интеллектуальный потенциал (в 1990 г. в белорусской науке было занято более 100 тыс. человек, сегодня — в три с лишним раза меньше), увеличивать, особенно в тех же регионах, научный и технологический задел. Наконец, надо понять, что к науке нельзя подходить совсем утилитарно, ибо при увеличении административного давления, лишающего ученых риска, можно придти к реализации псевдоинноваций, когда из запасников будут извлекаться старые разработки. Важно выдерживать четкое соотношение между получением немедленного эффекта и заделом на будущее.
— Анатолий Иванович, вы заметили — "инновационное развитие национальной экономики, энерго- и ресурсосбережение" значатся в перечне целей социально-экономического развития на 2006—2010 гг. Что в этой связи предстоит сделать?
—Последовательно совершенствовать производства с целью снижения их ресурсоемкости за счет применения современных способов упрочнения и новых эффективных материалов, использования новейших методов рециклинга и переработки отходов, разработки и применения отечественных заменителей импортируемых материалов и сырья, решения сопутствующих модернизации ресурсоемких производств проблем энергосбережения. Потенциал этих тактических мер примерно 15-20% материалоемкости ВВП.
Стратегия включает в себя постепенную реструктуризацию промышленности с целью замещения производств средней и малой наукоемкости, с ресурсорасточительными технологиями и продукцией на высоконаукоемкие отрасли, основанные на передовых информационных нано- и биотехнологиях, тонком химическом синтезе, производстве "интеллектуальных" композитов. Важно также обеспечить увеличение объемов производства и эффективного использования местных возобновляемых материально-сырьевых ресурсов, прежде всего растительного происхождения. Потенциал этих мер примерно 20-30%.





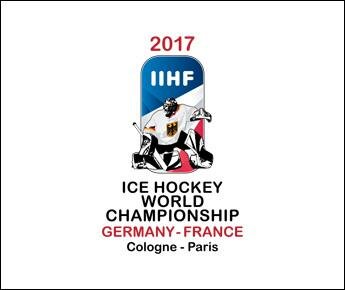













Обсудим?